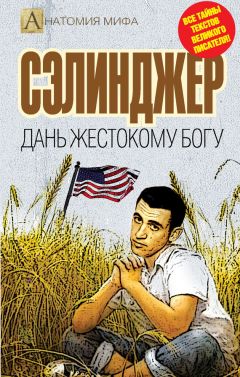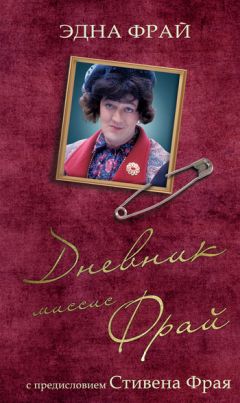Когда мы ехали обратно в Уэйкросс, то попросили проводника принести нам стол и несколько часов подряд играли в покер. А потом я все поняла и мне стало плохо. Я бросила карты, ушла на площадку и закурила сигарету. Сонни тоже пришел и взял у меня сигарету. Как ни в чем не бывало, он стоял, возвышаясь надо мной. Он был самоуверен и страшен. Он был хозяин. Даже стоя на площадке между вагонами, он не мог не быть хозяином площадки.
— Сонни, отпусти его, — попросила я. — Ты и в карты не разрешаешь ему играть, как он хочет.
Он не стал спрашивать:
— О чем ты говоришь?
Он хорошо знал, о чем я говорю, и ему было наплевать, знаю я, что он это знает, или нет. Он молчал и ждал, что я еще скажу.
— Сонни, отпусти его. Зачем он тебе? Ты ведь уже прорвался. Найди себе кого-нибудь еще. У тебя потрясающая музыка.
— Джо лучше всех пишет слова. Никто даже рядом с ним не стоит.
— Сонни, он прозаик, — сказала я. — Он — хороший прозаик. Я разговаривала с профессором Вурхизом в колледже… Ты слышал о нем… Когда он узнал, что Джо больше не пишет, он только покачал головой. Всего лишь покачал головой, Сонни. И все.
Сонни бросил окурок на пол и наступил на него.
— Джо такой же зануда, как я, — проговорил он. — Мы оба родились занудами. И нам обоим нужен успех. По крайней мере, он нас раскачает. И даст нам деньги. Даже если он напишет свой роман, пройдут годы, прежде чем его «я» будет вознаграждено.
— Ты неправ. Ты совершенно неправ. Джо — не зануда. Он просто не умеет себя защищать. У него есть идеалы. А у тебя их нет. Это ты зануда, Сонни.
— Ты и вправду расстроена, — заметил Сонни. — Но все равно зря теряешь время. Тебе что-нибудь понравилось из моих мелодий?
— Я тебя ненавижу, — сказала я. — И всю свою жизнь я буду заставлять себя ненавидеть твою музыку.
Он взял у меня сумку и достал сигареты.
— Это, — проговорил он, — невозможно.
Я вернулась в вагон.
После «Грязнули Пегги» братья Вариони написали «Эмми-Джо», но прежде, чем «Эмми-Джо» была продана, на новый стол Тедди Барто они бросили «Красавца с Богатой улицы». После «Красавца» они написали «Можно мне поплакать, Анни?», после «Анни» появилась «Погоди немного». Потом «Фрэнсис тоже там была», потом «Скучные уличные блюзы», потом… О, я могла бы все их перечислить. Я могла бы все их спеть. Да что толку?
Сразу после «Мэри, Мэри» они переехали в Чикаго, купили большой дом и заселили его бедными родственниками. Себе они оставили подвал. Там были рояль, стол для игры в пул и бар. Половину времени они спали. Разбогатели они очень быстро и все могли себе позволить… Например, дарить блондинкам изумруды или не знаю уж что. Внезапно в Америке не осталось ни одного продавца, который бы, взбираясь на лестницу за банкой спаржи, не насвистывал или не напевал одну из песенок братьев Вариони, как бы плохо у него ни было со слухом.
Сразу после «Можно мне поплакать, Анни?» у меня заболел отец, и мне пришлось уехать с ним в Калифорнию.
— Завтра мы с папой уезжаем. Будем жить в Калифорнии, — сказала я Джо. — Почему бы тебе тоже не поехать со мной в Калифорнию? Это я делаю тебе предложение по-латышски.
Он пригласил меня на ленч.
— Сара, я буду по тебе скучать.
— С нами в поезде едет Корин Гриффит. Она хорошенькая.
Джо улыбнулся. У него была такая улыбка.
— Сара, я буду тебя ждать, — сказал он. — Когда ты вернешься, я, наверно, уже повзрослею.
Я прикоснулась к его худой прекрасной руке.
— Джо, милый Джо. Ты писал в воскресенье? Ты писал, Джо? Ты хотя бы брал в руки рукопись?
— Я очень вежливо с ней поздоровался.
Он убрал свою руку из-под моей.
— Ты совсем не писал?
— Мы работали. Оставь меня в покое. Оставь меня в покое, Сара. Давай лучше есть салат и не терзать друг друга.
— Джо, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Ты ведь сжигаешь себя в этом вашем отвратительном подвале. Я хочу, чтобы ты все бросил и вновь вернулся к роману.
— Сара, пожалуйста. Даешь мне слово, что не будешь ругаться, если я тебе кое-что скажу?
— Даю.
— Мы делаем новую песню. Я уже подал Сонни заявление об уходе. Как полагается, за две недели. Теперь для него будет писать Лу Гангин.
— Неужели Сонни знает?
— Ну конечно, я ему сказал.
— Он не захочет Лу Гангина. Он хочет тебя.
— Он хочет Гангина, — сказал Джо. — Зачем я тебе проговорился?
— Он тебя обхитрит, Джо. Он тебя обхитрит и не отпустит. Поедем со мной в Калифорнию, — попросила я. — Хотя бы сядь со мной в поезд. Ты выйдешь, где и когда пожелаешь. Ты сможешь…
— Пожалуйста, Сара, замолчи.
Я упросила профессора Вурхиза поехать повидаться с Сонни, пока Джо провожал нас с папой. Сама я не могла этого сделать. Я бы не выдержала холодный взгляд его скучающих глаз, заранее разгадавший мою несчастную хитрость.
Сонни принял профессора Вурхиза в подвале, и все время, пока старик был там, играл на рояле.
— Профессор, садитесь, пожалуйста.
— Спасибо. Вы очень хорошо играете, сэр.
— У меня мало времени, профессор. На восемь назначена встреча.
— Очень хорошо. — Профессор сразу приступил к делу. — Насколько я понял, Джозеф пишет для вас слова, и скоро его место должен занять молодой человек по фамилии Гангли.
— Гангин, — поправил его хозяин. — Нет. Кто-то вас разыграл. Джо пишет лучше всех. А Гангин просто мальчик.
Тогда профессор Вурхиз сурово произнес:
— Ваш брат — поэт, мистер Вариони.
— Я думал, он прозаик.
— Скажем так. Он — писатель. И очень хороший писатель. Я считаю, что он гений.
— Как Редьярд Киплинг и прочие?
— Нет. Как Джозеф Вариони.
Сонни наигрывал что-то грустное на низах, то легко пробегая по клавишам, то сильно ударяя по ним. И профессор, сам того не желая, слушал его.
— Почему вы так уверены? — спросил Сонни. — Почему вы уверены, что после того, как он годами будет перебирать слова, кто-нибудь не скажет ему, что он неудачник?
— Мистер Вариони, я думаю, Джозеф должен использовать свой шанс, — ответил профессор Вурхиз. — Вы читали что-нибудь, написанное вашим братом?
— Он показывал мне рассказ о том, как дети идут из школы. Вшивенький рассказик. Там ничего не происходит.
— Мистер Вариони, — сказал профессор, — вы должны его отпустить. Вы имеете на него страшное влияние. Освободите его.
Сонни вскочил и застегнул все пуговицы на пиджаке своего стопятидесятидолларового костюма.
— Мне пора. Прошу прощения, профессор.
Профессор пошел следом за Сонни наверх. Они надели свои пальто. Лакей открыл дверь, и они вышли на улицу. Сонни подозвал такси и предложил профессору подвезти его, но профессор вежливо отказался.
Но он все-таки сделал последнюю попытку.
— Вы твердо решили впустую сжечь жизнь вашего брата? — спросил профессор Вурхиз.
Сонни отпустил такси, в которое уже хотел садиться. Он повернулся к профессору лицом и ответил ему совершенно правдиво.
— Профессор, я хочу слушать музыку. Я из тех людей, что ходят по ночным клубам. Но я бы не мог пойти в ночной клуб, если бы там какая-нибудь девочка пела слова Лу Гангина на мою музыку. Я не Моцарт. Я не пишу симфоний. Я пишу песни. У Джо слова получаются лучше, чем у кого бы то ни было, что бы он ни писал, джаз, любовную штучку или плясовую. Я с самого начала это знал.
Сонни закурил сигарету и выпустил дым, не разжимая губ.
— Я выдам вам тайну, — сказал он. — Я ужасно мучаюсь, когда слушаю музыку. Поэтому я не могу отказаться ни от чьей помощи.
Он кивнул профессору, сошел с тротуара на мостовую и сел в подкатившее такси.
Наверно, моя чувствительность притупилась в результате нормально-счастливой жизни, которую я веду. Долгое время после смерти Джо Вариони я старалась обходить те места, где играли джаз. Потом в педагогическом колледже я встретила Дугласа Смита, влюбилась в него, и мы отправились на танцы. Когда оркестр заиграл песню братьев Вариони, я почувствовала себя предательницей, поняв, что могу использовать слова и музыку братьев Вариони в качестве опознавательных знаков моего нового счастья для будущих ностальгических воспоминаний. Я была очень молода и очень влюблена в Дугласа. У него же было одно удивительное негениальное качество, у моего Дугласа… Его руки всегда хотели меня обнять. Я думаю, если какая-нибудь женщина в память о мужчине когда-нибудь захочет написать оду вечной любви, для убедительности ей обязательно надо будет вспомнить, как этот мужчина брад ее лицо в свои ладони и всматривался в него, по крайней мере, с вежливым интересом. Джо всегда был слишком несчастным, слишком упрямым, слишком занятым своей неудовлетворенной гениальностью, чтобы иметь время или желание всмотреться если не в мое лицо, то в мою любовь. Вот так случилось, что мое заурядное сердечко своим боем проводило старую любовь и встретило новую.
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)